Волки едят без хлеба
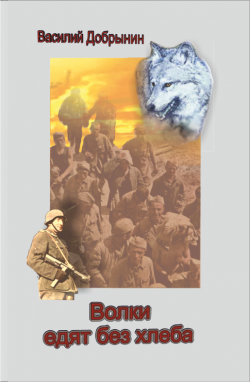
ISBN: 978-966-1632-02-7
Ограничения по возрасту: 12+
Краткое содержание
«Сделай все правильно, Мирка. Пусть твоя жизнь стоит золота. Возьми ради тех, кто ушел в небо над нами. Тебе надо выжить и рассказать: мир должен знать все это, иначе разучится дорожить человеческой жизнью. Постарайся выжить, и не обо мне, а о них расскажи», — кивнул капо вниз, в сторону раздевалки и душевой, откуда по тысяче в сутки, улетали на небо людские души…Что это значит, что едят без хлеба волки пролетарской революции - сотрудники НКВД? Книга о войне, героях и жертвах Освенцима, заблудших и честных агентах волчьей службы...
Отрывок из книги
На рассвете прямо над табуном и погонщиками, звеньями прошли немецкие самолеты. Не те, и не так, что летали армадами, каждый день, на большой высоте — на бомбежку. Эти шли над верхушками сосен.
— Штурмовики… — сказал Игорь Миронович и оглянулся в сторону оставшейся далеко позади Криницы.
Еще виднелись тройные точки в небе у горизонта, моторы слышны, а в эфире звучало из штурмовиков: «Майн готт, там кони! Великолепные кони!»
Их было двадцать. Хорошие, очень хорошие, не те, что работали в поле — а племенные кони. «Прекрасные кони, Мирка. Не должны они немцам достаться…»
Штурмовики, так же низко, еще пролетали дважды прямо над табуном, но старик и дети перегоняли не танки, не пушки, и немцы не тронули их.
— На один день от войны мы сегодня дальше, — сказал вечером Игорь Миронович. — на один шаг, но коней увели...
Змеился в сплетении хвороста огонёк — день прожит. Тянет с луга прохладой: роса зарождается в травах: наступающий день обещает быть солнечным. Мирка не спит. «Война, — не ноет, злится он на самого себя. Злится, помня о том, что так и остался в тени у дома Марины. Злится за то, что не хватило духу признкться. «Чего после этого стою, зачем живу?! — спросил сам себя. — Исчезну завтра, что от меня останется? Ничего, кроме маминых слёз…»
Витька, простыми словами: заткнул за пояс: нет дела — нет человека. Письмо безымянное, место пустое, ноль! С плодовой косточкой сравнил себя Мирка. Косточка, полная добрых желаний, или увидит солнце, или затрется в почве. Пробился росток, вышел к солнцу — это поступок, это цветение, это плоды. А Мирка? Подписать не решился, подойти не посмел — какие плоды, какое цветение — полный ноль!»
Про Гайдара, Витька без всяких сомнений, прав: война даёт шанс проявить себя. «И мы с ней не разминёмся, я к ней вернусь, вот только табун отогнать…» — решил Мирка, и с этой мыслью заснул.
Очень рано, до первых лучей, Игорь Миронович распорядился немедленно седлать лошадей.
Солнце встретило их в пути. Они двигались прямо к нему, не теряя его из вида. А оно поднималось всё выше, и что-то в движении этом напоминало призыв не медлить, спешить навстречу. Восхождение солнца наполняло воздух теплом и приглушало звуки. Растаял и без того едва слышный лязг танковых траков. Солнце, птицы, скользящий навстречу туман, и ни звука войны…
Погонщики не придали значения гулу мотоциклетных моторов: звук обычный. Он шел стороной, но внезапно вернулся, взвихрился клубами пыли и окружил табун и его погонщиков. Десяток гудящих машин, облепленных людьми в форме, прыгали по неровностям поля. «Пьяные?! — нелепой надеждой мелькнула мысль, — Трезвые так не ездят». Но форма была чужая.
Горланя, как на своей земле, солдаты соскакивали из седел и колясок в траву, обступали путников и коней. Офицер, в фуражке и без автомата — перед ним расступились и смолкли — обошел, как знаток, коней, притянул к себе морду красавца-гнедого и похлопал его по шее.
— Гут! — сказал он, — Зер гут! Хо-хо! — ладонь офицера трепала и гладила шею красавца.
Погонщики застыли в седлах.
— Хенде хох! — оставил шею красавца знаток лошадей офицер, и махнул рукой в сторону старшего погонщика.
Игорь Миронович соскочил с седла и, не успев поднять руки, получил удар под лопатки стволом автомата. Война настигла, и жизнь зависла на кончиках указательных пальцев чужих солдат. Игорь Миронович медленно поднял руки ладонями к небу.
Офицер перевёл взгляд на Мирку. Вместо испуга, Мирка ощутил ненависть, мгновенно и жарко вскипевшую в огне только что пережитого страха.
Офицер показал на землю и Мирка спешился. Ребят он не видел, они за спиной, но слышал: тоже соскакивали из седел…
Офицер смерил взглядом ребят и брезгливо махнул рукой:
— Гуляйт! Вон! А ты, — обернулся к Игорю Мироновичу и подбородком указал в сторону табуна, — этот кони в рейх! Рус, ты меня понимайт?
Для ребят все кончилось, их отпустили, но не слушались ноги, чтоб обернуться к солдатам спиной и ускорить шаг. Стараясь не медлить, ребята пятились, не сводя глаз с немцев, потом развернулись и побежали. А Мирка медлил…
— Фильде пфирд… Кони, — офицер стоял перед Игорем Мироновичем и прямо в лицо громко кричал, — собственность для Великий рейх! Шпрехен? Туда! — показал он на запад, — Туда! Ты, кони — туда!
Старик, как не слышал немца — не шелохнулся.
— Майн крафт! Я твоя власть! — сказал немец и залепил старику пощечину.
Игорь Миронович плюнул ему в лицо.
— Швайн! — заорал немец, выхватил пистолет, и трижды, в упор, выстрелил.
Игорь Миронович рухнул навзничь.
— Шиссен! — кричал офицер, — Шиссен! — и пнул старика.
Подскочил солдат и, под мышку подняв рукоять автомата, дал длинную очередь в лицо Игоря Мироновича. Полетела кровавая пыль вперемешку с белесыми клочьями, сгустками. Не стало лица — кровавое месиво. Офицер ожесточенно вытирал плевок на своём лице.
Мирка рванул за ребятами, видя в последний момент, что офицер показал на них. Автоматная очередь над головами, у самого леса остановила ребят.
Мирка ткнулся в их спины. Не оборачиваясь, замерли. Приближался тяжелый шаг. Подошедший удовлетворенно хрюкнул губами и с размаху влепил сапог под зад Мирке. Мирка в полете сбил остальных ребят. Слетела искрами из распахнутых глаз ненависть, с которой Мирка ещё три минуты назад смотрел в лицо офицера. Дрожь поползла по телу, а над затылком замер не остывший ствол автомата, в ноздри дохнула пороховая горечь.
Цепляя как мячик голову Мирки носком сапога, немец заставляет его обернуться. Мирка обернул лицо вверх. Немец жестом велел подняться:
— Ком! Ком! — показал он стволом автомата в сторону табуна и своих солдат.
Неровной шеренгой ребята остановились перед ожидавшим их офицером.
— Арбайт! — сказал он, — Кони — туда! — и показал на запад, — Этот, — пнул он Игоря Мироновича, — не понимайт. Вы понимайт? Понимайт?
— Понимайт, — хрипло ответил Мирка.
Офицер рассмеялся и похлопал по кобуре.
Погонщики, в сопровождении шестерых солдат с двумя мотоциклами, развернули табун и погнали на запад.
Молчали дорогой погонщики и старались не окликивать лошадей.
***
На привале немцы поставили носом к носу, свои мотоциклы и на передках колясок разложили еду. Тот, что бил Мирку и переворачивал сапогом, сказал погонщикам:
— Обедайт! — махнул рукой в поле неубранной картошки, показал семенящими пальцами: «Побежите» — и пригрозил автоматом.
Немцы ели неторопливо, для вкуса, не с голода. Один, которому нравилось угощать, делал это красиво. Нарезая кусками, показывал всем, комментировал и раздавал угощение. Им нравилось это занятие и эти куски: их крутили в пальцах, обнюхивали и с удовольствием ели. Не слюнка текла — кровь бушевала в сердце — ребята узнали тот, отложенный на потом, самый вкусный, шмат копченого сала…
Погонщики на десяток шагов углубились в поле. Копнули руками картошки. Под ногти, до боли их распирая, туго набилась земля.
— На фига это нам? — глядя на руки, на два десятка вырытых клубней поинтересовался Витька. — Как будем кушать сырую картошку?
— Поля не везде, а как-то сварить, испечь шанс ещё может быть, — сказал Мирка.
Окрик заставил погонщиков прекратить обед. Ребята попрыгали в седла. На ходу солдаты расслабленно, с любопытством разглядывали погонщиков: как чувствуют себя эти голодные русские мальчики в седлах? От злости и голода погонщики осмелели, стали покрикивать на лошадей и переговариваться в полголоса. Огибая посёлки и города, табун шёл на запад по незнакомым полям и дорогам родной страны. Один из коней шел под седлом без всадника…
Другой травой порастет поляна…
Поздно вечером немцы остановили табун у ворот старого монастыря. Спешились и загнали коней в добротные церковные конюшни. Монахов и церковников на территории не было. Погонщики расседлали коней, а поить и кормить их немцы взялись сами. Погонщикам дали место в подвале. Провожавший их немец увидел картошку и рассмеялся.
— Гут, руссиш аффе, киндер!* (*Хорошо, русский дурак-ребенок!) — сказал он, захлопнул тяжелую дверь и загремел засовами.
— Под монастырь подвели! — усмехнулся Витька, — Битте, молитесь, а утром айда на тот свет!
— Нет, — возразил Алеша, — завтра мы будем жить.
— Откуда ты знаешь?
— Тут станции нет, а коней в Германию, значит, их будут где-то грузить в вагоны. До вагонов и поживём…
— А дальше?
— Дальше не знаю. Пока что живем.
— Я сбегу! — сказал Витька.
— Кто не сбежал бы, да как? — заметил Алеша.
А кто знал? Да никто, в том числе Витька…
Чужая речь наверху постоянно перемежалась смехом, сверчками пиликали губные гармошки.
— Веселый народ, — заметил о немцах Витька, — а за смертью в карман не лезут. Ответил им Игорь Миронович, вот вам и всё — больше нет человека.
«А что будет с нами?» — никто не знал. Живы, пока нет вагонов для лошадей и нужны погонщики...
— А что мы решим с картошкой?
— Поменять бы на воду…
— Всю бы отдали, да только нужна она немцам?! — не порадовал правдой Саша.
— Бог в этих стенах близко, услышит — дарует воду! — улыбнулся неунывающий Витька.
«Бог смелых любит, — подумал Мирка, — а Витька смелый!»
Прокатился как гром, лязг кованных засовов:
— Эдден! — рявкнул суровый голос.
Ребята покатились по полу прочь от двери. Она отворилась, режущим острым лучом пробежал по глазам фонарь. Что-то подвинул по полу через порог, что-то сказал не по-русски немец, и снова захлопнул тяжелую дверь, закрыл на засовы.
Витька, прозревший первым, проверил, ради чего катались по полу, ради чего получили слепящего лиха в глаза?
— Кто хочет пить, ребята? — спросил он повеселевшим голосом.
Немец оставил большую жестянку с холодной водой. Жесть с запахом жирных мясных консервов, делала воду невкусной, но она стала единственным счастьем сгоревшего дня. Она подтверждала, что завтра жить, иначе, зачем принесли бы воду?
— Спасибо дружище, гадина добрая! — церемонно и зло отшутился Витька в сторону запертой двери.
«Смелый! — снова подумал Мирка, — Это не то, что ненависть. Её мне хватило чтобы в глаза посмотреть офицеру, а полежал под дулом — вся ненависть пыхнула спичкой и отгорела… Нет, смелость, это не просто дух, а сила!»
— Вить, — спросил он, — ты завтра сбежишь?
— Сбегу! Уже знаю, как: плеткой дам жеребцу под хвост, он одуреет и ломанет со всей дури, а я — за ним. В кусты — и пусть меня ищут! А искать не станут — вас охранять придется. Главное, чтобы не сразу поняли, не пристрелили сразу — стрелять все равно же будут!
— Не делай этого.
— Почему? Застрелят — да я не боюсь. Лучше так, чем под ними…
— Не надо, — поддержал Мирку Саша.
— Вот как? И сами — не побежите, и мне в поперёк?
— Ты вспомни что получилось: немцы нас отпустили...
— И что?
— Потом Игорь Миронович плюнул в фашистскую харю, его убили, а нас в двух шагах от леса, остановили, вернули — теперь мы здесь. Он там, а мы…
Витька вскипел:
— Вы героя не трожьте!
— Героев не нам судить… — согласился Алеша.
— Да уж нам ли!? — не унимался Витька, — Выполнили ответственное задание — не только коней врагу — и себя в холуи отдали! Позор! Себя в холуи! Вот в чем боль... А Игорь Миронович… Вы же хотите сказать, не плюнул — и нас бы не тронули? Так же?
— А сам как считаешь?
— Честно скажу, — остепенился Витька, — не знаю…
Повисла долгая пауза, Мирка ее нарушил:
— Вить, — спросил он, — а выживем, немцам мстить будешь?
— Да конечно буду!
— Выживем — и отомстим. Все, ты не сомневайся! Но если завтра один из нас…
— Остальным платить, получается, так?... — задумался Витька, — И всем вместе рвануть — не выйдет. Шесть автоматов, два пулемета: пара секунд — и конец беглецам.
— Видимо, так…
— Значит, — ставит точку в конце рассуждений Витька, — завтра я не убегу…
Конь, потерявший вчера седока, утром был вновь оседлан. Его оседлал грузный немец из мотоциклистов. Он трясся в седле впереди погонщиков, оглядывался, и в восторге вытягивал вверх большой палец.
А на привале, когда немцы, как и вчера, ткнув носом к носу коляски своих мотоциклов, разложили еду, немец-наездник, с доброй улыбкой пошел к погонщикам. Он нес собранную в узел крестьянскую грубую скатерть.
— Битте! — смеясь, поставил узел к ногам погонщиков.
Узел раскрылся, ударив пряным запахом копченого мяса, сыра, прочих вкусностей, чеснока...
Погонщики ели, с трудом унимая дрожь непослушных рук: ведь только вчера, глоток нехорошей воды был счастьем… Копченость оказалась большим куском чужой колбасы. Хлеб, зеленый лук и домашний творог — обо всём позаботился немец.
— А это, — заметил Витька о горке дарованных немцем, вареных яиц, — из-под наших кур выгребли! И лук, творог — тоже всё наше. Пошла пиявка кровь из страны хлебать!
Но ел он как все: с аппетитом и впрок:
— Вот сбежал бы — такой вкусноты не поел…
— Да уж, — заметил Саша, — пленных так не кормят…
— А мы, — с нажимом ответил Витька, — не пленные — дети.
«Вернуться живыми, не забывайте — вы дети! Вот так» — напутствовал Игорь Миронович…
— Это себя ты считаешь ребенком? — поинтересовался Саша.
— По меркам нормальным мы — дети. Но для них — нет, и я для них буду страшным ребенком. Страшным — они меня таким сделали. Они, и за это им тоже платить придется!
Он отвернулся. Для него обед кончен. Он и так одолжение делает, что до сих пор не сбежал. Немцы не обращали на них внимания: сытый пленный — хороший пленный, будьте спокойны!
Саша вздыхал, перемещая задумчивый взгляд от ребят к опустошенной скатерти, к немцам... А потом, сложив скатерть, понес ее к немцам. Не умея кланяться, он старался почтительно делать что-то подобное, пятился, положив перед немцами скатерть и вежливо повторял:
— Данке, данке, данкешен!
Витька не шелохнулся, не повернул головы и не смотрел на это. Ему плевать, что немцы, не получив благодарности, больше не станут так вкусно кормить…
В пути, до самого вечера, разговор не клеился.
Стараясь, чтобы другие не слышали, Сашка подъехал к Алеше:
— Что ни сделай, Витьке все будет не так. Я же не для себя: за всех вас это сделал. А что? мы бы мешок им бросили, дескать: «Биттте, крошки за нас уберите сами…» Не дай благодарности — нас кормить не станут. Вчерашний день забыли? Сыты сырой картошкой?
Потом Саша подъехал к Мирке:
— Вы с Лешей сказали бы Витьке, чтобы не дулся. Я же только за то, чтобы нас кормили, ты понимаешь?
— Понимаю, — ответил Мирка, не торопясь обещать, что всё правильно скажет Витьке.
— Ты все же скажи. А что-остаётся-то, раз они победили? Что делать?
— Они нас не победили…
Саша хмыкнул и дал коню шенкеля пятками.
Не склеился разговор до вечера. Не стоило Витьку цеплять, или не стоило кланяться немцам…
***
Вечером вышли к железнодорожной станции. Коней вывели на пассажирский перрон. Погонщикам приказали спешиться. Было ясно, что путь под седлами завершен.
— Будем ждать ужина сладкого? — поинтересовался Витька, — Мы за обед так любезно кланялись!
Подошел станционный работник:
— Ваши немцы по-нашему ни бум-бум. Так вот, сидите здесь дружно, кучкой. Никому из вас не подниматься, в сторону не отходить — сочтут за побег — это расстрел. В общем, сидите, а там будет видно.
Людей нет, а на перроне ждут посадки в вагоны лошади благородных кровей…
Ребята сидели «кучкой». Подняться нельзя, отойти — расстрел.
— Никогда этот день не забуду… — признался Витька.
Наверное, очень жалел о потерянном шансе…
Чужие танки!
Погонщиков разъединили. Пятерками разбили лошадей по четырем теплушкам, и — по одному погонщику к каждой пятерке. Погрузка закончена. К каждому вагону для инструктажа подходил все тот же работник станции:
— Значит так, едете в рейх для ухода за лошадьми. В пути ваши кони должны быть накормлены, напоены, вычищены, расчесаны — чтобы все до блеска. Воду, на корм и питье, придется носить самим, на каждой станции. Но — по команде и под конвоем. Расчет — два ведра на морду. Лопаты, метлы в вагонах есть — гребите. Пол должен быть чист, как в хате! И не дай вам бог — немцы порядок любят, для них он важнее, чем жизнь. Чуть не так — вам хана! Понятно? А от себя скажу: вам повезло — немецкий хлеб слаще. Езжайте с богом…
Дрожь пробежала в железных шарнирах вагонной сцепки — локомотив взял состав на тягу. Покачнулась родная земля, отступила и поплыла назад. Чем выстлана эта дорога, куда приведет? Немецкий хлеб слаще... — но не только же хлебом будет встречать своих пленников рейх.
Не сладкого — но полбуханки серого хлеба и пачку галет, получал на день каждый погонщик. Галет — этой хрустящей прелести, да так, чтобы каждый день, ни у кого из ребят в довоенной жизни не было — как тут не вспомнить работника станции? Быть бы ему трижды правым!
С хлебом просто и регулярно — есть день, есть хлеб и галеты, а насчет воды… Вода общая на двоих: с погонщиком и его лошадьми. Тяжкая ноша: «Два ведра на морду» — десять ведер должен бегом, под конвоем и каждый день приносить погонщик. А после еще одно — для себя. Для себя отдельно, иначе погонщик ущемит лошадей — непорядок — для немца худший, чем смерть.
На исходе третьего дня, в соседнем с Миркой вагоне загремели выстрелы. Мирка кинулся к щелям и дыркам, чтобы увидеть — что случилось? Движение замедлялось из-за неисправности: видно: только что восстановлен путь. За насыпью искореженные, вперемешку: вагоны, платформы, танки. У Мирки в душе посветлело — с крестами, чужие танки!
Он старался увидеть тех, от кого отбиваются немцы. Стрелял старый знакомый, «кормилец» — тот самый, грузный немец-наездник. Не пригибаясь, с добродушной улыбкой, как на прогулке, а не на войне — стрелял он с тормозной площадки. Полз стволом вверх и в сторону, колотился в руках автомат. Градом били по доскам, сыпались под ноги, пустые гильзы. Он не видел Мирки. Мирка перекатился к другой стене, чтобы увидеть своих, хотя б одним глазом. И у самой опушки соснового леса, увидел Витьку. Зайцем мелькала: виляя, бросаясь то вправо, то влево фигурка в чистой, ну, как назло, яркой рубашке. Рывок оставался, всего пол-рывка до опушки — Витька упал в траву. Прямо под куст: одинокий, дутый как шар, отделившийся от основной стены леса.
У немца сползла улыбка. Он тянул шею, высматривал цель, соскочившую с мушки. «Все!» — понял Мирка. Похолодели ладони. Витька сам говорил, что стрелять в него обязательно будут. И тут снова увидел, как немец повел автоматным стволом. Видел — нашел немец мишень — значит, Витька жив… Стрелок задержал дыхание, нервничал палец на спусковом крючке. Всем телом подался вперед, и отвел автомат…
Поезд, прошёл поврежденный участок с разбитыми танками, и стал набирать полный ход.
Рейху, конечно, плевать на побег погонщика: среди лошадей потерь нет, но тяжесть последствий не замедлила лечь на Миркины плечи. Витькиных коней перевели к нему. Двадцать ведер воды, плюс ещё одно — бегом под конвоем, стали теперь ежедневной нормой. Он с ног валился, а падать нельзя: поить, кормить, чистить и убирать — всего, но не хлеба, теперь стало вдвое больше. А хлеб стал другим: липким, как пластилин в подгорелой корке, а галет Мирка больше не видел. «Витьку нам не простят!» — понимал он, выбиваясь из сил...
«Битте!» — сказал вооруженный человек
Сбежал Витька вовремя. На рассвете второго дня, ещё не увидев солнца, Мирка почувствовал — если увидит, то это будет другое, чужое солнце. Родина теряет его. «Мы Польше? Наверное, это Польша?..» — пытался определиться Мирка, ощущая, что для своей страны он уже всё — ломоть отрезанный. Границы не видел, но поезд катил по чужой земле и Мирка понял впервые, по-настоящему, что такое одиночество… Тяжко, тоскливо, было вчера, как и позавчера, но оставалась в душе и за глухими вагонными стенами Родина, а теперь?..
Только в песне про журавлей, которая в школьном детстве до слёз впечатляла, есть чудо, а в жизни? Да и в песне чудо казалось не очень-то убедительным.
Он кричал им во след:
«Помогите пожалуйста братцы!»
И спустились они, помогая усталому братцу,
Хоть и знали о том, что до цели так трудно добраться.
В небеса поднялась журавлей белокрылая стая,
Они братца с собой уносили, на юг улетая.
Не мог взять в толк маленький Мирка: ну как раненой птице помогут подняться в воздух чужие крылья? Просто эти слова были все-таки лучше, чем те, которые впечатляли до слёз:
А наутро опять поднялась журавлиная стая
Все на юг улетели далёко,
И лишь только один, с перебитым крылом,
По поляне бродил одиноко…
«Один, с перебитым крылом, одиноко…» — это я сегодня…» — подумал Мирка.
Мирка попил воды и засучил рукава. Жизнь не читала мыслей, а десять коней должны быть сыты, напоены, вычищены, должен блестеть, «как в своей хате», пол. «В Польше, не в Польше — неважно! — ругался Мирка, давя стон зубами, — Всё зависит от лошадей». Их судьба интересна рейху, а Мирка — так, пряжка на конской сбруе…
Качается небо кругами в глазах, а вагоны стоят на месте — не сразу заметил Мирка. «Приехали», — понял он…
Гром засовов, чужая бесцеремонная речь, Мирке приказано убраться в угол и — Bewegen nicht!* (*Не двигаться!)
Лошадей вывели. Мирка остался один в опустевшей, захлопнутой на все засовы, теплушке. «И остаться бы так, до конца войны никому не нужным… — безнадежно мечтал он, — В мирное время ненужность страшна, а теперь это счастье…»
Дверь вагона открылась, и рухнул мир незатейливых грёз. Хлынул солнечный свет, Мирка тут же закрыл глаза, но выход в мир, распахнутый настежь, ждал.
— Битте! — сказал вооруженный человек в солдатской форме и вытянул руку в широком приветственном жесте.
«Мы спасли твою жизнь! — подумал Мирка, узнавая в грузной фигуре наездника и «кормильца», который стрелял в спину Витьки. — Твои друзья там, на моей земле, их убивают красноармейцы, а ты — притерся к чужому седлу, пристроился к табуну, и вернулся в свой тёпленький, безопасный тыл. Пристежка, пряжка на сбруе, как я, и ничем не лучше…».
— Dort!* (*Там!) — сказал немец и показал в разноликую, разновозрастную толпу, сгоняемую в центр перрона.
Через десять шагов Мирка был с ними. Колонна двинулась в пеший путь. В конце пути их встречали ворота с надписью по-немецки — аркой на фоне неба. Не будь эти буквы железными, арка могла показаться приветственной радугой над головами входящих в ворота…
В конце колонны, закрылся шлагбаум, перечеркнув полосатым росчерком прежнюю жизнь. Карпик, выдернутый из пруда, переживает подобное: на том же свете, но в другом мире. Новый, безликий, бесцеремонный мир, без лишних слов, как сор метлой, загнал прибывших в душ — под брандспойты холодной воды, смыть грязь и последнюю память о покидаемой жизни.




